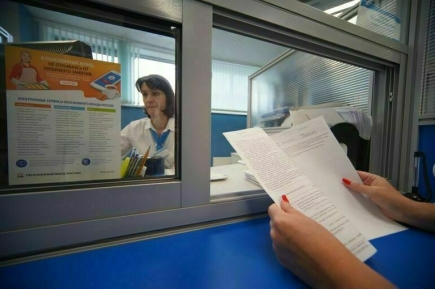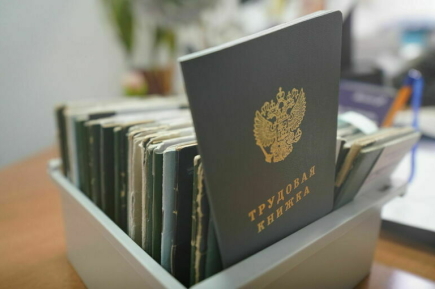Маннергейма сдали в музей
Памятный знак финскому маршалу, установленный летом в Петербурге, демонтировали

Мемориальная доска Карлу Густаву Маннергейму провисела в Петербурге ровно четыре месяца. Её установили 16 июня 2016 года на здании Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулёва на Захарьевской улице, сняли в ночь на 16 октября и передали в музей Первой мировой войны в Царском Селе.
И друг, и враг
Эти четыре месяца для памятного знака оказались беспокойными: его трижды обливали краской, рубили топором и даже пробили дырки – не исключено, что прострелили. Доску отмывали, латали, но она вновь подвергалась нападениям, ведь фигура финского маршала и русского генерала крайне неоднозначна.
До революции Карл Густав Маннергейм был один из самых блестящих офицеров русской армии, выдающийся полководец и герой Первой мировой войны. После 1917 года он оказался в Финляндии, получившей независимость от России, и возглавил её вооружённые силы. Судьба сложилась так, что во время Второй мировой войны СССР и Финляндия воевали, и даже дважды.
Финские войска участвовали в блокаде Ленинграда, унёсшей жизни полутора миллионов горожан. Так что многие петербуржцы воспринимают фигуру финского военачальника однозначно: враг, противник.
Есть и другая точка зрения: Маннергейм дошёл до прежних границ Финляндии по реке Сестра и остановился, вопреки требованиям Гитлера, он не обстреливал Ленинград. И тем, возможно, спас не одну тысячу жителей. Он был противником, но противником достойным, благородным, вызывающим уважение. К тому же, указывали сторонники памятного знака, мемориальная доска посвящена дореволюционному этапу жизни полководца, когда он был бесспорным героем, и даже имя его написано на русский манер: не Карл Густав, а Густав Карлович, как его и звали во времена службы Маннергейма при царском дворе.
По какому праву?
Пока историки и простые горожане обсуждали фигуру финского маршала, юристов и депутатов заботил другой вопрос: как вообще появился этот памятный знак. Ведь ни Смольный, ни городской комитет по культуре разрешение на его установку не давали. В Общественный совет по мемориальным доскам – а в Петербурге есть и такой – заявку никто не подавал и, соответственно, не обсуждал. Хотя барельеф Маннергейма появился на Захарьевской улице торжественно: в открытии участвовали и министр культуры Владимир Мединский, и тогдашний глава Администрации Президента Сергей Иванов.
Смольный самоустранился от конфликта: мол, мы тут ни при чём. Эта позиция вскоре прозвучала и в суде, когда петербуржец Павел Кузнецов потребовал от властей демонтировать незаконно установленную доску. Ответ оказался юридически безукоризненным, но с житейской точки зрения абсурдным: правительство города не отдавало распоряжений об установке памятного знака, значит, не ему и устранять нарушение, пусть висит.
В годовщину начала блокады Ленинграда, восьмого сентября, у памятного знака появилась издевательская траурная лента: «Гитлеровскому союзнику Маннергейму с глубокими чувствами от ленинградцев». Видимо, это стало последней каплей: Смольный пообещал, что до конца года доску обязательно уберут.
Вскоре последовал второй иск от мурманчанки Флоры Геращенко, пережившей в детстве блокаду Ленинграда. Она потребовала, чтобы комитет по культуре издал распоряжение о демонтаже доски Маннергейму как незаконно установленной и, соответственно, очистил стену. Первое заседание суда назначили на 17 октября, но накануне памятный знак исчез: его сняли те же, кто и повесил, – члены Русского военно-исторического общества. И всё же истица собирается судиться до конца: для неё принципиально, чтобы органы исполнительной власти издали бумагу, которая бы не позволила подобному памятному знаку появиться впредь. А то, дескать, шум уляжется, доску отреставрируют и вернут на прежнее место.
Урок на будущее
Сейчас на стене военной академии ничто не напоминает о знаке, висевшем ещё накануне: дырки от креплений зашпаклёваны, штукатурка покрашена, всё стало, как раньше.
В музей Первой мировой войны в Царском Селе, открытый два года назад, доску привезли в том истерзанном виде, в каком она висела на Захарьевской улице: с проломами, дырками и следами так до конца и не отмытой красной краски. Её установили во внутреннем дворе музея в назидание потомкам.
– Решение о демонтаже памятной доски Маннергейму было единственным выходом из возникшей вокруг нее социальной напряжённости в городе, – считает член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. – Размещение спорных с точки зрения истории монументов в будущем следует согласовывать с городским парламентом и общественностью. Безусловно, что способы, с помощью которых недовольные установкой монумента с ним боролись, являются вандализмом. Однако это можно назвать уроком для принимающих решения об увековечивании памяти неоднозначных с исторической точки зрения личностей без согласования с горожанами.
 3166
3166
Ещё материалы: Вадим Тюльпанов